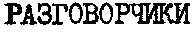
Разговорчики № 23. Линор Горалик. 19 января 2006 г.
Тема: «Как люди разговаривают»
Гилёва: Сегодня в «Разговорчиках» принимает участие писатель, поэт, журналист, художник, единая во всех лицах Линор Горалик.
Горалик: Здравствуйте!
Гилёва: Вы много занимаетесь исследовательской деятельностью. Над чем сейчас работаете?
Горалик: Не знаю, насколько это интересно будет. Я сейчас занимаюсь репрезентацией детства. С репрезентацией как-то не очень хорошо. По масс-культуре, по истории и социологии детства очень много всего. И как общий контент тут есть что читать, и чтение это обычно захватывающее.
Гилёва: Репрезентация – это как, это что?
Горалик: Репрезентация детства - это то, что сегодняшняя масс-культура пытается сказать нам о ребенке, то, как она видит ребенка, что она думает о ребенке. И если начать об этом думать, то приходишь к довольно, на мой вкус, страшным вещам. Это очень большая тема, со сложным, разветвленным, действительно, контекстом… там очень много…я даже не хочу вдаваться, потому что этому нет конца.
Другая тема – я с очень большим интересом отношусь к американским 50-м, потому что мне они кажутся таким сложным, зачарованным временем. Если интересно, я могу в двух словах рассказать.
Гилёва: Да, конечно.
Горалик: Я, как и многие люди моего поколения, человек, воспитанный на некоем сложном мифе об Америке – мифе дуальном: негативном-позитивном, верном-неверном… Потом этот миф начал разрастаться, потом, наоборот, рассеиваться, потом ты сам начинаешь там жить или работать или что-нибудь еще…И создается очень сложное пространство. Мне, как человеку очень сильно интересующемуся Второй мировой войной, 50-е американские видятся зачарованным моментом, одним из редчайших, насколько я могу судить, моментов в истории Европейской цивилизации последних примерно двух сотен лет, когда людям не просто казалось, что все будет хорошо, а что для того, чтоб было хорошо, надо никогда не выгуливать собаку на чужой территории, подстригать траву и готовить домашнюю еду три раза в день. Это был период недолгий, даже не десятилетие, там по большому счету было лет восемь, но тогда был большой класс людей, которым казалось, что они не просто выиграли войну, а спасли мир, победили в борьбе добра и зла, и теперь у них в руках есть жизнь, которую действительно можно прожить хорошо и для этого не нужны обещания или будущее, нужно просто два раза в неделю менять белье, как тогда учили в школе… Самое интересное, что это абсолютная неправда, это было тяжелое время, со сложными семейными, социальными отношениями, с очень высоким уровнем несвободы. И вообще, это был тяжелый период, послевоенный период, как ни крути, даже при том, что он был, конечно, другим, нежели в Европе, особенно в России. Но там у людей был другой взгляд на жизнь, и это завораживающе интересно. Короче говоря, читать интересно про какие-то такие вещи.
Гилёва: А еще темы?
Горалик: Меня всегда интересовало все, что связано со Второй мировой войной и всегда меня интересовала одна и та же тема… (Меня никогда не интересовал военный подвиг, вернее – боевой дискурс, меня не интересовало, как люди ходят в атаку или не ходят в атаку, и вообще весь этот огромный пласт солдатского существования…. Я как-то с ним не связана внутренне). Меня интересовала в войне всегда одна и та же вещь: вот есть мирное население, оно живет, каждое утро просыпается, встает с постели… и вот есть катастрофа, в широком смысле. И это примерно все. И этот аспект войны не отпускает меня настолько, что я не могу перестать ни помнить о нем, ни писать о нем. Вот сейчас я пишу один роман об этой войне, которая уже никого не интересует, потом начну второй роман об этой же войне…
Мне всегда было интересно, почему моя семья всегда была абсолютно лишена вот этого вот пафоса… Мой дедушка воевал, воевал сложно, был большим чином, потом уходил в отставку. Это была нормальная история, которая есть почти у любой семьи, история про войну. Но не было этой большой темы, не было и греческого мифа такого – «я другой»…и вообще всего этого не было. Но я не могла понять, откуда у меня такой ужас перед войной и такой бешеный интерес к войне, а именно к этому аспекту – что происходит с простыми людьми. Две недели назад я получила ответ, пересказывать его я здесь не буду, но выяснилось, что да, в семье существует такого масштаба тема по этому поводу, что как всегда нечему удивляться. Каждый раз, когда я натыкалась на то, что нечему удивляться, я чувствовала себя спокойнее.
Гилёва: А что вы имеете в виду, когда говорите «нечему удивляться»?
Горалик: Ну мы же все люди рациональные, понятно, что что бы с человеком ни происходило, что бы он ни думал, что бы его ни интересовало, всегда есть какая-то цепочечка – с чего это началось, с какой-то личной истории, семейной истории… И понятно, что человек моего поколения, никогда войну не видевший откуда-то должен был принести это – из семейной, может, истории или какой-то другой истории… И вот я получила ответ, что да, есть семейная история, и меня это очень успокаивает.
Гилёва: На ваш взгляд, что сейчас происходит в современной русской литературе?
Горалик: Я не знаю. Я не слежу. Я слежу за тем, что происходит в обществе нескольких близких мне авторов, это, в основном, поэты, и это примерно все, что я знаю. Я смотрю очень много кино, страшное количество, я под него работаю обычно…
Гилёва: То есть, вы включаете фильмы и под них пишете?
Горалик: Ну, я не только пишу, у меня там работа всякая… Да, я обычно под кино работаю, если это не что-то совсем выдающееся… Я смотрю страшное количество всякого говна, я его очень люблю, типа подростковых комедий… фильмов 12 в неделю, иногда больше, как получится. Но при этом ни малейшего представления о том, что происходит в русском кино, я тоже не имею. Как говорит один выдающийся поэт, когда эти люди научатся держать пистолет, я приду на них посмотреть. Это неправда, это чистый снобизм, непонятно откуда взявшийся, исторически сложившийся…
Гилёва: А каких поэтов читаете?
Горалик: Я читаю довольно широкий круг. То есть иногда мне кажется, что я действительно читаю довольно широкий круг, иногда, когда я, например, беседую с писателями, которые считают, что это круг… то я, конечно, читаю очень мало. Даже по именам понятно, что… Это Львовский, присутствующая здесь Идлис, Кудрявцев, Синьков, Рубахин… Это можно долго перечислять. Ну вот назову я сейчас 20 имен… Но есть какой-то круг. И это не то чтобы свежо... Вот сидят люди, которые об этом пишут, с этим работают и это анализируют. А я читаю, как читатель. Вот это важная для меня пространственность.
Гилёва: По идее, писатель – хороший психолог, да?
Горалик: Нет. Мне иногда кажется, что нет. Психолог – это человек, понимающий причинно-следственные связи и способный построить рациональную подложку для эмоциональной ситуации. Это главное, что отличает психолога от любого шарлатана в этой области.
Гилёва: То есть, объяснить ее и сказать, что делать в этой ситуации?
Горалик: Во-первых, понять. Да, психолог, это человек, который умеет отделять рациональное от иррационального. Писатель может быть эмоциональным, интуитивным, хорошим наблюдателем, но при этом быть совсем не психологом. Это идет, мне кажется, с советской литературы, про инженерию человеческих душ…в самом деле – сидит человек, что-то там пишет, у него потом что-то болит, живот…. Не знаю. Нет.
Гилёва: А у вас часто просят совета?
Горалик: Наверное, как у всех. Есть друзья, мы часто с ними что-то обсуждаем. Нет, нет. Просто советы – это очень страшно, я не готова.
Гилёва: Вы как-то говорили про раздел «Говорит», в каком-то из интервью, что вот люди вам рассказывают, и вы записываете. Это действительно так появляется?
Горалик: Не совсем. У меня есть такой длинный цикл «Говорит». Там, наверное, уже текстов 60-70. Он давно уже пишется, вялотекуще. Все тексты от первого лица, как если бы человек рассказывал какую-то баечку. Разные люди, разные тексты. Там есть тексты, которые рассказаны знакомыми, – я спрашиваю разрешение, спрашиваю, ставить ли посвящение, если да – то как… Есть чистый вымысел. Это просто удобный формат, чтобы придумать какой-то рассказ. Вообще в последнее время меня интересует все, что подразумевает « не размазывать тему». Малая форма и малая интонация. То есть возможность спокойно и скупо рассказывать большие вещи. Это, конечно, получается редко, а может, и вообще не получается, но мне интересно пытаться это делать.
Гилёва: О чем, на Ваш взгляд, очень важно сейчас сказать в текстах?
Горалик: Я обыватель. Мне интересно про людей. Для меня всегда уходящая натура – это живой человек. Он уходящий в буквальном смысле слова – он смертный. И у меня всегда такое чувство, что время определяется не вехами, а вот этими разговорами, и вообще какими-то крошечными вещами. Я вот сейчас ездила в Израиль (я езжу примерно раз в полгода – на неделю, на месяц, иногда чаще, там родители мои, я очень с ними дружу) и мой бывший муж, который очень близкий мой друг, я его очень люблю, и вообще он прекрасное существо, сказал мне в разговоре фразу, которой в иврите не было полгода назад. И ее не будет через три года. И у меня каждый раз захватывает дух, потому что эти вещи исчезают бесследно. И я твердо знаю, что один и тот же человек в 2004, 2005, 2006 году, который просыпается утром и у него болит живот, он просыпается в разные миры, по-разному, и живот у него болит по-разному… И мне ужасно интересно это. Вообще мне очень хочется, чтобы кто-нибудь писал про людей.
Я все думала, что мне напоминает Москва сегодня, я мало знаю ее историю, особенно историю повседневности, но она интересует меня больше, чем история глобальных событий. Она напоминает мне Берлин 43-го года. Берлин 43-го года был местом чудовищно странным. Он был функционирующей столицей когда-то богатой страны. В Берлине в ноябре 43-го года можно было получить прекрасный ужин с уткой в шампанском. Просто он стоил 4 с половиной тысячи марок, а зарплата рабочих была 1 марка в неделю. В Берлине было несколько отелей в центре города, в которых в ноябре 44-го года и даже в январе 45-го люди собирались танцевать каждый вечер. Работали кабаре. Но при этом это был город, который бомбили с 43-го года, в большинстве жилых районов к зиме 43-го года не было ни одного стекла в окнах, люди погибали, был голод, были карточки, не было лекарств… Это был очень страшный город. Он был расслоенным настолько, что создавалось впечатление, я думаю, и по документам это видно, я много сейчас в этой теме роюсь, создавалось впечатление театра абсурда, то есть вещей, которые в километре друг от друга не могут существовать. Но они существовали. И Москва кажется мне похожей на Берлин 43-го года. Мы оказались в западной части. Мы, присутствующие здесь, имеющие возможность взять такси в минус 30, приехать сюда, заплатить деньги... и многое другое. Мы оказались в западной части. Есть восточная часть, но мы туда не ездим. Там тоже не во всех окнах есть стекла, там вообще другой мир. Они сюда тоже не приходят. Мне хочется не чернушного апокалиптического романа об ужасах сегодняшней России и особенно Москвы, а...
В восточной части Берлина, где не доставало стекол и были карточки, люди праздновали Рождество, влюблялись, там рождались дети, там была жизнь. И вот эта жизнь, которая пробивается сквозь все, она меня очень интересует. И особенно меня интересует то, каким странным, холодным, тяжелым и двойственным пространством сейчас является Россия. Я такого романа не читала… Я читаю мало, может, он есть.
Гилёва: Вы бы хотели такой роман написать?
Горалик: Нет. Во-первых, потому, что мой интерес – это интерес наблюдателя. А роман – это взять и запихнуть себя в этот мир, в нем жить. Это я не готова, так как я ничего не знаю об этом. Я еще меньше знаю о Берлине 43-45 годов, про который я сейчас пишу, но когда я, живя здесь сегодня, пишу о Берлине, жившем тогда, я могу позволить себе писать о нем как о Греко-микенской цивилизации, его нет. Писать человеку, живущему в России, о России сегодня так нельзя, это должен быть кто-то, кто живет в восточной части города.
Гилёва: Когда вы знакомитесь с человеком, как вы понимаете, что вот это – «свой» человек?
Горалик: Я не знаю. Если он меня не раздражает…Хотя меня мало кто раздражает. Я человек хорошо социализированный, говоря кондовым языком, знакомые у меня очень разные, но я головой понимаю, что все они люди одного круга. С другим кругом, я, конечно, сталкиваюсь, я просто не умею с ним взаимодействовать, точно так же, как они меня не видят, и я их не вижу, мы друг другу не интересны, чужды. Ну это как и все люди в нашем возрасте.
Гилёва: Что вы чувствуете, когда вы книгу закончили?
Горалик: Облегчение. Во-первых, я человек, который не любит незаконченную работу. Поэтому облегчение после сделанной работы. Во-вторых, книгу затеваешь, потому что что-то мешает. Я затеваю книгу, среди прочего, как терапевтический проект. Написал, проговорил - чувствуешь, что стало легче, что-то меньше раздражает, что-то меньше мешает в себе.
Гилёва: Писателя Сорокина, с которым вы делали интервью, спрашивали в письмах, мол, вы пишете о порнографии, значит, у вас личные проблемы на этой почве… Вам проговаривание помогает избавиться от личных проблем?
Горалик: Когда мы с Сережей Кузнецовым писали роман о порнографии, это, конечно, было связано с большими внутренними проблемами. Вообще вся тема секса у каждого человека – это тема системообразующая, очень большая. Если есть человек, у которого она не связана с внутренними проблемами, надо его немедленно препарировать, узнавать, как ему это удалось. Это касается всего. Вот мы с другом и коллегой Станиславом Львовским написали роман. Хотелось что-то проговорить. Вот если я сейчас напишу этот странный роман про войну, то наверное тоже что-то проговорю… Хотя у меня нет чувства, что эта тема оставит меня в покое, потому что собираюсь писать еще один…но что-то становится легче по ходу этой работы, безусловно.
Гилёва: Как вы считаете, потребность выговориться у человека – это универсальная вещь или, допустим, у женщин эта потребность больше чем у мужчин?
Горалик: Мне кажется, у всех по-разному. Теория нам говорит о том, что выговориться – это хороший важный инструмент. Но у всех как-то… Я не знаю, у меня нет мнения по этому вопросу.
Из зала: Для чего вы живете?
Горалик: Вы знаете, я отвечу серьезно. Я, как человек верующий и смертный, живу в процессе бесконечной борьбы добра со злом, живу для того, чтобы ежесекундно делать выбор, который, как известно, склоняет чашу на ту или иную сторону. Как человек рациональный, я понимаю, что мне дан некоторый ресурс в этой жизни - возможность ее восприятия - этот ресурс меня интересует, я его использую настолько, насколько считаю разумным.
Из зала: А зачем тогда литература?
Горалик: Я говорю это как человек, который знает, что делает, отдает себе отчет…это потребность. Вот мы говорили, что это терапевтический инструмент. Это такая потребность.
Горалик: Может, вы ищете какие-то ценности, ради которых жить, поэтому литературой и занялись?
Горалик: Нет, я не ищу ценности.
Из зала: Вы верите в то, что, как считали древние греки, любой поэт, любой творческий человек – это как бы рупор высших сил?
Горалик: Нет, я не верю.
Из зала: …что он как бы проводник…
Горалик: Во-первых, этот вопрос хорошо бы задать автору совершенно другого масштаба. Во-вторых, я могу говорить только о том, как я делаю тексты, что я чувствую. Общаясь с изумительно талантливыми писателями, гениальными поэтами, окружающими меня творческими людьми, у меня возникает иногда чувство, что это высшее существо. Не знаю, проводник-не проводник, это сложный вопрос, но определенно существо другого порядка. Я знаю, чем вызывается это ощущение. Это ощущение тоже рационализируется, и мне жалко, что оно рационализируется у меня. Эти люди живут так, как я бы не смогла. И мне кажется, что в мифе о поэте это ощущение – этот человек живет так, как я бы не смог, - оно очень сильно. Оно очень сильно способствует мифологизации поэта – в хорошем и плохом смысле. Это важно и для восприятия творчества тоже. Мне всегда интересен текст, который дается мне голосом не свыше, а с другого мира, который рядом. Можно называть какие-то имена, можно не называть, но это всегда люди, описывающие другую вселенную.
Из зала: Что для вас добро, каковы его признаки? Оно для всех одно?
Горалик: Это тот вопрос, отвечание на который составляет всю мою работу на протяжении этого срока. У меня есть такое чувство, что мы все – не мы как человечество, а то интуитивное мы, которое мы имеем в виду, когда говорим «мы», - у нас задано интуитивное ощущение того, что такое добро и зло, у нас есть это понимание и дальше мы с ним как-то пытаемся работать, с чем-то соглашаться, что-то опровергать, что-то с большим усилием пытаться опровергать… Но я знаю, что, к сожалению, у меня никогда не получалось пользоваться формальными признаками, в том числе формальными признаками, которые дает не вера, а религия. Для меня этот процесс очень интуитивный, у меня не получается его как-то формализировать.
Гилёва: Так это абсолютные понятия, или они могут быть относительными?
Горалик: Я вообще не знаю, есть ли они. Все это какая-то такая большая система, ничего я про нее не понимаю. Я понимаю только, что как-то она вся связана внутри, совсем вся.
Из зала: Вам приходилось когда-нибудь менять свои убеждения?
Горалик: Я не чувствую этого процесса. Я как любой человек прохожу все эти фазы – детских идеалов, подростковых идеалов и так далее – и там ты всегда уверен, что всегда сможешь оценить какой-то поступок или принять решение. Одно из преимуществ возраста в том, что ты про всякую вещь начинаешь знать, что у нее даже не две стороны, а много разных.
Вообще-то люди хорошие. Хорошие в том смысле, что за любым поступком человека стоят хорошие мотивы. И он играет в эту бесконечную игру – попытку оценки. Чем дольше про что-нибудь знаешь, тем лучше понимаешь, что ничего ты там оценить не можешь. И это касается взглядов и убеждений больше, чем чего бы то ни было.
Из зала: Не пугало ли вас то, что, понимая мотивы тех или иных поступков, вы могли в какой-то момент потерять какие-то собственные ориентиры? Вы видите две, три, сколько их там есть, стороны конфликта, вы можете понять мотивы каждого, можете поставить себя на место каждой из сторон…а где вы сами реально, где ваша позиция?
Горалик: Вот смотрите. Читая многие тексты, статьи, дневники, тот же ЖЖ, который для многих из здесь присутствующих важен, я думаю – как людям удается сохранить позицию в конфликте? Я не говорю о конфликте, в который они вовлечены. Как людям удается видеть конфликт и знать, на какой стороне они находятся? Мне не удается, потому что мне это совсем не интересно. Бывают ситуации, когда происходящее наводит на меня ужас, и я чувствую, что не могу видеть две стороны, у меня не хватает силы воли, терпения, рационального зерна на это. И я твердо знаю, кто в этой ситуации виноват, кого я хочу убить и без кого человечество прожило бы гораздо лучше. Я знаю, что это моменты слабости лично для меня, потому что в этот момент ты теряешь способность видеть мир большим. Если ты видишь конфликт и у тебя есть силы понять, что делают эти люди, и понять, как они оказались в этой точке, почти всегда приходишь к очень неприятной эмоции – их очень жалко. Жалко всех, кто там оказался. Что-то же их привело туда. Я знаю, что этим людям в этот момент плохо.
А у меня – защитный механизм. Вот эта позиция, которая уравнивает стороны и не требует определить, на какой стороне ты находишься. Я ее вырабатывала годами и собираюсь ее придерживаться.
Гилёва: А вы часто себе вызов бросаете?
Горалик: Конечно. Даже собраться встать утром… Мне кажется, что всем так тяжело жить именно от того, что надо ведь делать мелкие вещи все время… пойти на работу, вынести мусор, покормить ребенка…Это бесконечная череда, это очень много, это тяжело.
Гилёва: А счастье не может быть в мелких вещах?
Горалик: Ну это все одно…Ну все равно же трудно. Я очень люблю морепродукты, однажды мы с другом пошли в ресторан и заказали громадную миску морепродуктов. И час мы с ними оставались один на один. Потом я спросила у своего спутника: «Милый, ты наелся?». Он сказал, что так наелся, что заебался, простите. Доволен был, в общем…Ну, мне кажется, это все примерно один процесс.
Аня: Возвращаясь к теме конфликта. Вы не допускаете возможность, что между нами может сейчас возникнуть конфликт, вам не станет жалко нас и себя, что мы оказались в данное время в данном месте?
Горалик: Станет.
Аня: Как вам кажется, зачем мы здесь, что мы ждем от вас? Короче говоря, на что мы, по-вашему, были нацелены, идя сюда, и что ждали вы?
Гилёва: То, что происходит сейчас здесь – это entertainment в чистом виде. Люди, которые пришли сюда, пришли занимательно, по их представлению, провести время. Я не уверена, что я знаю точно, кто что ждет от этой встречи, но когда я хожу на литературные мероприятия, мне интересны две вещи – мне интересно посмотреть на живого человека, человека, которого я знаю по текстам, или знаю живьем, но не видела какое-то время; и – посмотреть на его картину мира, послушать, что за этим стоит, как он разговаривает, что он из себя представляет.
Что касается меня… Я представляла себе примерно, какого рода люди придут. Я думала, что это будет какой-то разговор, в котором можно просто сказать какие-то вещи, услышать какие-то вопросы…
Гилёва: До этого вы как-то для себя определяли, что вот это я говорить буду, а это – не буду?
Горалик: Нет. Я готова говорить обо всем, о чем готова. О чем не готова – не буду.
Из зала: Планируете ли вы свою жизнь каким-то образом? Есть ли какая-то точка – далекая или не далекая – где у вас сложится слово «вечность»?
Горалик: Для тех, кто в курсе, – это синхронность акаузальных событий по Юнгу. Нет. То ощущение, которое было, например, в ранней юности - что в таком-то возрасте будет то-то, а в таком-то – то-то… Этого, слава богу, уже нет. У меня есть, как и у любого человека, планы. Какие-то на короткий срок, какие-то на длинный. Они связаны всегда с начатой работой. К слову «вечность» они отношения не имеют. Я не планирую на большой шкале никогда. Это при том, что я человек, который живет по органайзеру, у которого железным образом все спланировано по часам… видимо, в эту микроэкономику уходят все мои ресурсы.
Из зала: В каком возрасте вы перестали себе рисовать будущее, что вот в таком-то году я стану тем-то, а в таком-то году – тем-то? В каком возрасте вы поняли, что дальше нужно просто жить и все?
Горалик: Я не знаю. Не помню. Но я твердо знаю, что это связано с эмиграцией. Моя семья репатриировалась, когда мне было 14 лет. За полгода до этого мы не имели даже представления, что что-то такое может произойти. И примерно с того времени появилось ощущение, что я ничего не знаю о будущем.
Гилёва: Что вас может обидеть очень сильно? Может ли это сделать чужой человек, или это может сделать только близкий?
Горалик: Сильно нарушить мое внутреннее равновесие и вызвать ощущение, что в этом виноват конкретный человек, могут близкие. Когда ты обижен, подразумевается, что ты беззащитен перед сложившейся ситуацией, когда тебя в нее поставили, а ты ее не контролируешь. Для меня это эмоциональное состояние такое редкое, что оно связано только с близкими людьми. Я даже не припомню последнего раза, когда меня обидели.
А что может обидеть… Вы знаете, мне кажется, когда люди говорят «я обижен», большинство из них подразумевает невнимание, они ждали от близких быть замеченным или отреагированным, а этого не произошло. Хотя это может быть только моя проекция.
Гилёва: А к критике как вы относитесь? И кто для вас может быть конструктивным критиком, критиком, который вам помогает?
Горалик: У меня так получилось, что круг моих близких людей – это круг людей, сведущих в литературе, как это часто бывает. Есть люди, чье мнение для меня системообразующее. То есть их мнение о конкретном тексте, о конкретной работе является решающим в плане того, заниматься ли этой работой вообще. Особенно это касается больших проектов, требующих больших усилий. И критика с их стороны для меня важна и как экспертная, и как критика со стороны людей, которые понимают, что я пытаюсь сделать, то есть они оценивают текст в формате того, какова была моя задача, удалось мне ее выполнить или нет. Это бесценно.
С литературной критикой у меня дела обстоят так: когда говорят что-нибудь хорошее, я не могу это воспринять, я не верю, а когда говорят что-нибудь плохое, я недоумеваю, зачем потрачены усилия, потому что я не понимаю, зачем писать про то, что не нравится, зачем тратить столько сил, времени и всего остального, чтобы сказать людям – не читайте это.
Из зала: А других вариантов нет? Только «читайте-не читайте»?
Горалик: По большому счету критика решает все-таки задачу определения литературного пространства «читаемо-нечитаемо». Это не всегда так. Я не знаю, я не занималась критикой в ее истинном смысле, я занималась эссеистикой, у нее другая задача. Когда люди занимаются критикой всерьез, там, конечно, может быть много причин для позитивного или негативного высказывания.
Гилёва: А обратная связь с читателем вам нужна?
Горалик: Она всем нужна. Нужна, потому что столько сделано, столько сил потрачено и конечно интересно, какого хрена мы все это делали… Иногда разговаривают, иногда пишут письма, иногда пересказывают разговоры, иногда кто-нибудь возьмет да и ни с того ни с сего напишет какую-нибудь рецензию. Конечно, это очень важно. Делаешь ты что-то, делаешь…а потом выясняется, что есть какие-то люди, которым это интересно. Это поддерживает. И работать становится легче.
Гилёва: Когда вы пишете текст, вы представляете себе кого-то конкретно, для кого это пишется?
Горалик: Да, это всегда 2, 3, 5 человек, которых я знаю лично. Я, конечно, изображая из себя писателя, все-таки стараюсь держать в голове, что есть читатель, что он что-то понимает, не понимает, знает, не знает, что-то потребно для него, что-то непотребно… Но вообще конкретно держу в голове несколько близких людей. И тексты им не показываю…хотя нет, показываю, и даже сейчас невольно с интонацией одного из них это «показываю» сказала. И вот кому-то не показывала, не показывала…. А потом показала. А человек этот совершенно скупой на оценки, никогда не говорящий ничего ни про что, сказал «очень сильное впечатление». И у меня возникло ощущение, что вот эта чудовищно тяжелая для меня книга, которая тянется, выматывает из меня душу, и полгода я с ней вожусь, - что надо ее заканчивать. Это очень поддерживает.
Гилёва: Существует для вас такая проблема, что рынок диктует одно, потребитель требует другое… Или вы пишете то, что диктует ваша внутренняя потребность?
Горалик: У меня есть другие источники заработка, то есть я не завишу от окупаемости моих книг. Я знаю, что, издавая что-то из того, что я делаю, издатель тоже не идет на большие риски. Поэтому мне легче, чем людям, которые видят литературу как единственную свою профессию и вынуждены решать с ее помощью свои бытовые задачи. Тут у меня развязаны руки, к счастью.
Гилёва: Возвращаясь к разговору об обиде. Вы сказали, что одной из причин может быть невнимание. На самом деле, любому человеку нужно ощущение собственной значимости. Вот мне лично сложнее всего сказать близкому человеку искренне хорошие слова и попросить прощения. А когда человек не так важен, то сказать легче, как ни странно. А как вам?
Горалик: Я очень люблю говорить хорошее. Просто меня окружают люди, которым всегда есть что хорошее сказать. В возрасте 17-18 лет был такой период, когда стало ясно, что надо говорить все хорошее, что приходит на ум, потому что эти моменты могут быть упущены. И вообще это так помогает жить. Всем, в том числе и говорящему. И попросить прощения не сложно, потому что для меня попросить прощения – это шанс закрыть гештальт, закрыть конфликт. Мне трудно сказать что-то, что требует какого-то ответного действия. Мне трудно обязать человека к чему-нибудь, попросить.
Гилёва: Как вам кажется, все безнадежно или все будет хорошо?
Горалик: Кажется, что все спасутся. Все будет «ничо». В целом. Потому что мы хотим, чтобы было хорошо. Поэтому получится «ничо». Вообще нормальные здоровые люди хотят, чтобы все было хорошо. Если они прилагают к этому какие-то усилия, то «ничо» почти гарантировано. Так что все будет нормально, как у всех.
Гилёва: Жизнь – это игра или все очень серьезно?
Горалик: Это каждый определяет для себя. Я стараюсь, чтобы все было хорошо. Я стараюсь. Как все хорошие тети пытаются стараться. Для меня жизнь – ни то и ни то. Я не могу ответить, потому что для меня это не дихотомия, у меня не получается склониться к тому или иному ответу. Как-то несет…
Гилёва: А если мы будем хотеть, чтобы было прекрасно, тогда может быть и хорошо, по идее?
Горалик: «Ничо» будет.
Гилёва: Спасибо вам.
Джао Да»
м. «Китай-город», Лубянский проезд,
дом 25
«Китайский летчик
Джао Да»
м. «Китай-город», Лубянский проезд,
дом 25